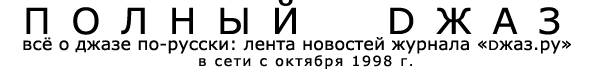1. Новое чувство,
или просто босса-нова
2. "Испанский период"
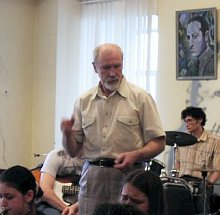 Если
у Пикассо были "голубой период", "кубистский период", у Стравинского -
"русский", "неоклассический", "додекафонный" - то почему бы и мне не
обзавестись парой-тройкой каких-нибудь "периодов"? И один уже отыскался
- испанский. Пускай у меня для начала будет "испанский период". Если
у Пикассо были "голубой период", "кубистский период", у Стравинского -
"русский", "неоклассический", "додекафонный" - то почему бы и мне не
обзавестись парой-тройкой каких-нибудь "периодов"? И один уже отыскался
- испанский. Пускай у меня для начала будет "испанский период".
К самим испанцам я отношусь сдержанно, даже подозрительно. Из-за боя
быков. Это кровожадное действо и зрелище вызывает у меня отвращение и
негодование. Ведь это все равно, что ходить на бойню смотреть, как
убивают и разделывают скотину. Правда, на бойне животных убивают сразу,
не играют с ними в кошки-мышки. А на корриде их еще и терзают перед
смертью, втыкая бандерильи в спины, пока они не превратятся в подушечку,
утыканную иглами, еще и кровавую.
Но испанская музыка мне всегда нравилась. Здесь, вероятно, существует
какая-то загадка. Кровожадные испанские страсти, вылившись в музыку,
становятся категорией искусства и действуют на человека уже как
искусство. И действуют сильно. И крови нет - "она давно ушла в землю",
как шептал Коровьев на ухо Маргарите - королеве бала у сатаны. Помните,
когда Азазелло убил барона Майгеля выстрелом в сердце? И Маргарита,
зажмурившись, сделала глоток из чаши, поднесенной Воландом - кровь,
брызнувшая из сердца барона, превратилась в вино.
И здесь крови нет - она вся ушла в музыку, и эта музыка действует на нас
как вино. Человеку нужны острые ощущения; одним - грубые, с кровью,
другим утонченные, одушевленные искусством.
Русских композиторов всегда привлекала испанская музыка. Глинка,
Балакирев, Чайковский, Римский-Корсаков… Не минула сия чаша и меня
грешного. Несколько скромных испанообразных пьес, а одно произведение -
даже крупной формы, не такого, конечно, масштаба, как "Арагонская хота"
Глинки, появилось из-под моего шаловливого пера. Кантата "Памяти Пабло
Неруды" (это - крупная форма), фортепианная пьеса "Напоминание",
"Посвящение Чику Кориа"(для биг-бэнда), "Павана" для симфоджаза, и,
наконец, "Болеро".
Я хорошо помню, как в вечернем, грустном одиночестве нащупал я первый
мотив, и он потек свободно и легко, ложась на длительное остинато баса и
гитары. У меня сразу зашевелился внутри комочек радостного предчувствия,
что всегда означало удачную мелодическую находку. Мне показалось, что я
нашел нечто новое, чего раньше у меня не было. И пьеса сложилась быстро
и удачно.
Через несколько дней мои первые слушательницы - сестры Каретниковы, Лена
и Надя - высказали мне свое одобрение, когда я показал им пьесу на
фортепиано. И по тем словам и тону, с каким это было высказано, я понял,
что одобрение искреннее, и тема произвела на них впечатление.
А через некоторое время я показал Болеро Леше Козлову - он тогда был
моим соседом: Я жил в Колокольниковом переулке, он - на улице Хмелева
(оба впадают в Сретенку) - это через переулок. Его "Арсенал" с медной
группой был тогда в полном расцвете. Первый бум джаз-рока в Москве, - и
"Арсенал" успел завоевать популярность исполнением шлягеров известной
джаз-рок группы "Кровь, пот и слезы" и из рок-оперы "Иисус Христос -
суперзвезда". Козлов выходил на сцену с длинными волосами и в
ярко-зеленом, в белую полосочку, костюмчике из тонкой материи.
Леша сразу же цепким взглядом и ухом профессионального лидера популярной
джаз-рок группы извлек из пачки принесенных мной тем "Болеро". Мне даже
показалось, что у него хищно блеснули глаза, как у того гайдаровского
татарина-старьевщика из "Судьбы барабанщика", выхватившего скрюченными
пальцами Валентинину меховую горжетку из груды тряпья, которое вывалил
перед ним мальчик. Разумеется, ни о каких деньгах речи не шло. Я был
страшно рад, что знаменитый "Арсенал" станет исполнять в концертах мою
пьесу. Лишь бы играл!
Тема получилась протяженной - троекратно повторенные 22 такта + две
вставки - одна 8, другая 16 тактов (тема равелевского Болеро занимает 72
такта). А модулирующая вставка, подготовленная остановкой ритма, и
накапливающий движение рифф бас-гитары, подхваченный медью, очень
освежали общий ландшафт на застоявшемся остинатном басу.
На премьере в клубе МВТУ - тогда это был один из джазовых центров Москвы
- я пришел и получил свою долю "польщения" авторскому тщеславию. Леша
обставил исполнение моей пьесы всеми необходимыми эффектами:
вступительное слово, игра света - от полной темноты, через разноцветные
блики до ослепительного белого. И действительно, когда в темноте
прозвучали первые далекие гитарные аккорды, и мягко вступили тромбоны, у
меня мурашки пробежали по спине. Да, Козлов умел преподнести музыку и
себя. Правда, здесь была допущена ошибка, - тромбоновый затакт прозвучал
не на паузе - гитара продолжала играть. Но это досадное упущение было
тут же забыто, когда тема, набирая силу, прошла в разных вариантах и
достигла кульминации, выводя на соло трубача, Борю Кузнецова. Боря
сыграл импровизацию блестяще. А после модулирующей туттийной вставки
стал солировать гитарист Розенберг (Лешина придумка). Менялся темп -
соло шло в дубле. К сожалению, гитарист не смог убедительно провести
свое соло. Он много повторялся, долго "раскачивался" в начале
импровизации. Соло получилось длинным и довольно нудным. Это был
просчет. К сожалению, на компакт-диске "Неизвестный Арсенал" эти
недочеты не были исправлены. Вместо того, чтобы вырезать или сократить
соло гитары, Леша обрезал репризу. Вышла неполноценная "обрезанная"
композиция.
"Болеро" (Юрий Чугунов) - группа "Арсенал", 1979:
RealAudio 20 kbps
1,5 Mb
WindowsMedia 70 kbps 4 Mb
Но жизнь моего "Болеро" на этом не кончилась. Я сделал вариант для
эстрадно-симфонического оркестра Силантьева, и милейший Юрий Васильевич
записал его в фонд. Разумеется, я опустил гитарное соло (да и сыграть
его было некому), а трубач Саша Парфенов очень добросовестно исполнил
импровизацию Бори Кузнецова, которую я ему списал с "арсенальской"
записи. В симфоническом варианте вещь звучала, разумеется, внушительней.
Жаль только, что не было того ритмического мощного посыла, который был в
"Арсенале".
Болеро я включил в программу, когда вступал в Союз композиторов. Помню,
Саульский возражал. При показе на эстрадно-джазовой секции, которую вел
Юрий Сергеевич, я услышал от него удививший меня упрек: затакт темы (Es,
D, H, G) напомнил ему начало "Камаринской" (попевка из протяжной песни
вступления). Но у Глинки этот ход появляется в середине песни и звучит в
миноре (F, E, C, A). У меня ход этот несет совсем другую нагрузку. Он,
начиная тему парой залигованных нот (Es, D) и парой стаккатных (H, G),
вводит в тему как бы на цыпочках, предвещая ее длительное развертывание
из таинственных, мрачных глубин до громогласного тутти. У меня даже
шевельнулось недоброе подозрение: что же может означать такое
неадекватное восприятие и такая странная критика?
Не понравилась пьеса и Александру Михайлову, который назвал ее
обыкновенной стилизацией. Зачем только я ему показал!
"Болеро" напечатала в журнале "Молодежная эстрада" моя приятельница с
институтских времен, Валя Синельщикова, милая, добрая женщина. Она была
одно время музыкальным редактором этого журнала. А так как журнал
выходил большим тиражом и попадал во многие точки СССР, я вскоре стал
получать отзывы в устном и письменном виде от разных незнакомых людей,
чаще не москвичей.
А один литовский дирижер биг-бэнда, Нарушис, даже прислал мне пленку с
записью "Болеро", сделанной его оркестром. К сожалению, исполнение было
никудышное.
"Болеро" попало даже в стенгазету Джазовой студии "Москворечье".
Маркин в 80-е годы писал
эпиграммы на московских джазменов; этой чести удостоился и я. В то время
я как раз вступил в Союз композиторов, и стрела была направлена именно в
сторону этого этот факта моей биографии. Отношение Маркина к Союзу
композиторов примерно такое, какое было у наших "кучкистов" к
консерватории. Постараюсь вспомнить, хотя бы фрагментарно.
Коль ты "член", то и пиши,
Только водкой не греши.
Он ответ не часто просит,
"Болеро" в портфеле носит;
И всегда он чем-то нов,
Этот Юрий Чугунов.
Эпиграмма, как видите, очень мягкая, даже хвалебная, и даже на
эпиграмму-то не похожа. Кажется, мы тогда с ним и знакомы близко не
были; наше более близкое знакомство состоится на почве той самой водки,
против которой он выступал в стишке.
Испанская тема давно потеряла для меня свою привлекательность, как и
джаз-рок. На досуге надо бы покопаться в архиве, и, глядишь, оформится
еще какой-нибудь "период творчества", например, розовый, а там и
рассказец о нем всплывет.
Продолжение следует
Юрий Чугунов
|