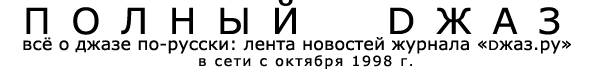| Так получилось, что три концерта,
которые мне довелось посетить за эти дни,
проходили в главном зале клуба Knitting Factory. Два из
них прозвучали своеобразным эхом концертов
предыдущей недели. Судите сами: в них участвовали
главные герои прошлого обзора - Джон Медески и
Юрий Лемешев. На сей раз, впрочем, они были скорее
сайдменами, чем фронтменами. Кроме места
проведения, концерты объединяет еще и то, что все
выступавшие ансамбли играли в неожиданном
составе, почти без репетиций, полагаясь больше на
интуицию и профессионализм, а не на знание
музыкального материала. Больше, пожалуй, ничего
общего у них не было. 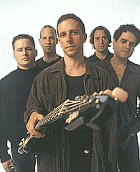 В перерыве между
концертами гастрольного тура трио Medeski Martin & Wood
пианист Джон Медески принял участие в
выступлении группы Club d'Elf. Этому образованию,
созданному басистом Майком Ривардом, недавно
исполнилось два года. Несмотря на то, что у группы
есть постоянный состав и столь же постоянная
концертная площадка - клуб Lizard Lounge в Кембридже,
Массачусетс, - Club d'Elf нередко выступает с совсем
другими музыкантами и в других местах. В Knitting
Factory, кроме Майка, из основного состава играл лишь
барабанщик Эрик Керр. Остальные были гостями и,
надо сказать, гостями весьма именитыми. Уже
названный Джон Медески - электроорган,
синтезаторы и рояль; Джо Минери - саксофоны; Мэт
Минери - шестиструнная электроскрипка и Брахим
Фрибганэ - уд и думбек. Честно говоря, прочитав
состав в анонсе, я просто не поверил своим глазам,
пока не убедился, придя на концерт, что это
все-таки правда. Имена отца и сына Манери не часто
встретишь в афише, и уж тем более было неожиданно
узнать, что они играют в группе, которая
ориентируется на даб-транс-грув с примесью
электроники, хип хопа, фанка, марокканской и
западно-африканской музыки. Впрочем, фри джаза у
нее тоже хватает. В перерыве между
концертами гастрольного тура трио Medeski Martin & Wood
пианист Джон Медески принял участие в
выступлении группы Club d'Elf. Этому образованию,
созданному басистом Майком Ривардом, недавно
исполнилось два года. Несмотря на то, что у группы
есть постоянный состав и столь же постоянная
концертная площадка - клуб Lizard Lounge в Кембридже,
Массачусетс, - Club d'Elf нередко выступает с совсем
другими музыкантами и в других местах. В Knitting
Factory, кроме Майка, из основного состава играл лишь
барабанщик Эрик Керр. Остальные были гостями и,
надо сказать, гостями весьма именитыми. Уже
названный Джон Медески - электроорган,
синтезаторы и рояль; Джо Минери - саксофоны; Мэт
Минери - шестиструнная электроскрипка и Брахим
Фрибганэ - уд и думбек. Честно говоря, прочитав
состав в анонсе, я просто не поверил своим глазам,
пока не убедился, придя на концерт, что это
все-таки правда. Имена отца и сына Манери не часто
встретишь в афише, и уж тем более было неожиданно
узнать, что они играют в группе, которая
ориентируется на даб-транс-грув с примесью
электроники, хип хопа, фанка, марокканской и
западно-африканской музыки. Впрочем, фри джаза у
нее тоже хватает.
 Майк Ривард не боится
полистилистики. Электроника и народные
инструменты, две бас-гитары и контрабас, орган и
рояль, электроскрипка и саксофоны - все это
буквально загромождало сцену. Джону Медески
пришлось ползти под роялем, чтобы попасть в свое
царство клавиш, а огромный Джо Минери чуть было
не опрокинул ударную установку. Однако ничего
лишнего там не было. Стоя в центре сцены, Ривард
отдавал беззвучные приказы музыкантам, которые
понимали его с полувзмаха руки. Насыщенный звук
накрывал зал, и казалось, что еще немного - и клуб
начнет рассыпаться и разваливаться. Майк Ривард не боится
полистилистики. Электроника и народные
инструменты, две бас-гитары и контрабас, орган и
рояль, электроскрипка и саксофоны - все это
буквально загромождало сцену. Джону Медески
пришлось ползти под роялем, чтобы попасть в свое
царство клавиш, а огромный Джо Минери чуть было
не опрокинул ударную установку. Однако ничего
лишнего там не было. Стоя в центре сцены, Ривард
отдавал беззвучные приказы музыкантам, которые
понимали его с полувзмаха руки. Насыщенный звук
накрывал зал, и казалось, что еще немного - и клуб
начнет рассыпаться и разваливаться.
 В самый разгар действа (другим словом
это не назовешь) Джо Минери отложил саксофон и,
нагнувшись к микрофону и размахивая руками,
запел, а точнее - заголосил какие-то
нечленораздельные мантры. В самый разгар действа (другим словом
это не назовешь) Джо Минери отложил саксофон и,
нагнувшись к микрофону и размахивая руками,
запел, а точнее - заголосил какие-то
нечленораздельные мантры.
Отыграв часа полтора, музыканты ушли отдыхать, а
я отправился домой, рассуждая о том, что второй
сет, конечно, будет другим, но мне, увы, его не
услышать.
 В то же время в клубе гостил один из
самых известных джазовых авангардных
саксофонистов англичанин Эван Паркер. Три вечера
он выступал с небольшими составами в старом
офисе клуба, а в воскресенье Паркер и гости
играли уже в главном зале. Среди гостей
назывались саксофонисты Тим Берн и Нед
Ротенберг, специалистка по электронике Икуи Мори
и другие. Только этих четверых на одной сцене с
лихвой хватило бы для того, чтобы сделать
выступление уникальным праздником авангарда.
Между тем неназванными гостями оказались Эрл
Ховард - синтезатор, Георг Граве - фортепиано и
Джон Зорн - саксофон! Не знаю, играли ли
когда-нибудь до этого вместе все четверо главных
саксофонистов авангарда, но, безусловно, этот
концерт - один из самых редких в истории жанра. В то же время в клубе гостил один из
самых известных джазовых авангардных
саксофонистов англичанин Эван Паркер. Три вечера
он выступал с небольшими составами в старом
офисе клуба, а в воскресенье Паркер и гости
играли уже в главном зале. Среди гостей
назывались саксофонисты Тим Берн и Нед
Ротенберг, специалистка по электронике Икуи Мори
и другие. Только этих четверых на одной сцене с
лихвой хватило бы для того, чтобы сделать
выступление уникальным праздником авангарда.
Между тем неназванными гостями оказались Эрл
Ховард - синтезатор, Георг Граве - фортепиано и
Джон Зорн - саксофон! Не знаю, играли ли
когда-нибудь до этого вместе все четверо главных
саксофонистов авангарда, но, безусловно, этот
концерт - один из самых редких в истории жанра.
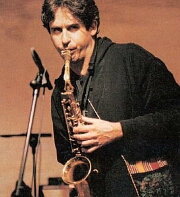 Как и подобает столь значительному
событию, зал был полон. По-видимому, никто ничего
заранее не репетировал. Просто собрались и
заиграли. Что меня больше всего удивило, так это
то, что играли не собачатину. Скорее, это была
утрированная музыка. Как если бы, редактируя
изображение, мы бы до конца выкрутили ручку
контраста, в результате чего все детали стали бы
совершенно нереальными, но вместе с тем
узнаваемыми. Как и подобает столь значительному
событию, зал был полон. По-видимому, никто ничего
заранее не репетировал. Просто собрались и
заиграли. Что меня больше всего удивило, так это
то, что играли не собачатину. Скорее, это была
утрированная музыка. Как если бы, редактируя
изображение, мы бы до конца выкрутили ручку
контраста, в результате чего все детали стали бы
совершенно нереальными, но вместе с тем
узнаваемыми.
Поразило еще то, насколько по-разному
играют саксофонисты. Игра самого Эвана Паркера -
скупая, с большим количеством пауз и почти без
специальных технических приемов.  Скупость эта,
впрочем, возможно частично объяснялась тем, что
ему нужно было еще и руководить ансамблем. Тим
Берн, как всегда босой, но на этот раз коротко
постриженный, большую часть времени играл на
баритон-саксофоне, используя резкую атаку в басу
и быстрые скользящие пассажи в верхнем регистре.
Нед Ротенберг, постоянно пытающийся сделать вид,
что он играть не собирается или даже хочет совсем
уйти со сцены, а потому столь же постоянно
понукаемый стоящим рядом с ним Зорном, играл
мало, но зато быстро и отрывисто, используя весь
диапазон инструмента. Ну а Джон Зорн, как обычно,
демонстрировал виртуозное владение
художественным свистом на альт-саксофоне и
умение с помощь атаки издавать щелчки, хрипы и
прочие нестандартные звуки. Остальные трое
участников ансамбля создавали невообразимый
электронно-акустический шум и скрежет, служивший
фоном для саксофонного квартета. Скупость эта,
впрочем, возможно частично объяснялась тем, что
ему нужно было еще и руководить ансамблем. Тим
Берн, как всегда босой, но на этот раз коротко
постриженный, большую часть времени играл на
баритон-саксофоне, используя резкую атаку в басу
и быстрые скользящие пассажи в верхнем регистре.
Нед Ротенберг, постоянно пытающийся сделать вид,
что он играть не собирается или даже хочет совсем
уйти со сцены, а потому столь же постоянно
понукаемый стоящим рядом с ним Зорном, играл
мало, но зато быстро и отрывисто, используя весь
диапазон инструмента. Ну а Джон Зорн, как обычно,
демонстрировал виртуозное владение
художественным свистом на альт-саксофоне и
умение с помощь атаки издавать щелчки, хрипы и
прочие нестандартные звуки. Остальные трое
участников ансамбля создавали невообразимый
электронно-акустический шум и скрежет, служивший
фоном для саксофонного квартета.
 Играли, к сожалению, очень
недолго. Как справедливо заметил Паркер, играть
на бис в такой ситуации невозможно, ведь все, что
прозвучало, было импровизацией, так что длина
каждой композиции - по меньшей мере, минут
пятнадцать, да и контролировать ее музыканты
могут весьма относительно. В большом зале нельзя
остаться на второй сет, поэтому и на этот раз мне,
как и всем остальным, пришлось уйти. Говорят, что
толпе, которая ворвалась в зал после антракта,
повезло больше - сет был длиннее. Но разве дело во
времени? Играли, к сожалению, очень
недолго. Как справедливо заметил Паркер, играть
на бис в такой ситуации невозможно, ведь все, что
прозвучало, было импровизацией, так что длина
каждой композиции - по меньшей мере, минут
пятнадцать, да и контролировать ее музыканты
могут весьма относительно. В большом зале нельзя
остаться на второй сет, поэтому и на этот раз мне,
как и всем остальным, пришлось уйти. Говорят, что
толпе, которая ворвалась в зал после антракта,
повезло больше - сет был длиннее. Но разве дело во
времени?
 Последнее событие, о котором я хочу
рассказать - концерт ансамбля Дуга Куомо и Фрэнка
Лондона, играющий музыку для кино. Композитор и
гитарист Куомо и в самом деле пишет музыку для
телесериалов и кино. Трубач Лондон этим
занимается тоже. Но в этот вечер звучали в
основном композиции для еще неснятых фильмов,
навеянные такими монстрами киномузыки, как Нино
Рота. Для этой цели Куомо и Лондон пригласили
своих друзей-музыкантов, среди которых -
аккордеонист Юрий Лемешев, контрабасист Брэд
Джонс, саксофонист-флейтист Боб Францескини и
другие. Если учесть, что перкуссионист играет на
всевозможных бубнах, тарелках, думбеке, бонгах и
прочих шумелках, а пианист, кроме рояля - на
гордости советского инструментостроения
терменвоксе, то можно легко себе представить,
сколь разнообразны возможности этого ансамбля. Последнее событие, о котором я хочу
рассказать - концерт ансамбля Дуга Куомо и Фрэнка
Лондона, играющий музыку для кино. Композитор и
гитарист Куомо и в самом деле пишет музыку для
телесериалов и кино. Трубач Лондон этим
занимается тоже. Но в этот вечер звучали в
основном композиции для еще неснятых фильмов,
навеянные такими монстрами киномузыки, как Нино
Рота. Для этой цели Куомо и Лондон пригласили
своих друзей-музыкантов, среди которых -
аккордеонист Юрий Лемешев, контрабасист Брэд
Джонс, саксофонист-флейтист Боб Францескини и
другие. Если учесть, что перкуссионист играет на
всевозможных бубнах, тарелках, думбеке, бонгах и
прочих шумелках, а пианист, кроме рояля - на
гордости советского инструментостроения
терменвоксе, то можно легко себе представить,
сколь разнообразны возможности этого ансамбля.
Начав с романтической в духе итальянского
неореализма мелодии, Куомо, Лондон и компания
развернули перед слушателями ретроспективу
музыкального сопровождения к фильмам с
шестидесятых до девяностых. Тут были и
зажигательные латиноамериканские ритмы, и
витиеватые и немного приторные мелодии так
называемого современного джаза для взрослых, и
агрессивные фри-джазовые зарисовки, и
медитативные и расплывчатые электронные напевы
с терменвоксом в качестве солиста.
Чувствовалось, что для большинства музыкантов
(прежде всего для Фрэнка Лондона) такая форма
музицирования близка и понятна. С одной стороны,
есть тема, сюжет и ясно, куда и как надо
направлять композицию, а с другой - самих фильмов
нет, поэтому музыканты могут импровизировать
сколь угодно долго, а не ограничиваться
пятьюдесятью тремя секундами, в течение которых
должна звучать мелодия за кадром. Однако приятно
обрадовало то, что все-таки первая - сюжетная -
составляющая была главной, и в дебри
неконтролируемой импровизации ансамбль не
углублялся. Более того, для всех инструментов,
включая перкуссию и терменвокс, были выписаны
партии. По словам Юрия Лемешева, репетиции как
таковой не было, но нью-йоркским музыкантам не
привыкать играть с листа, да и Фрэнку Лондону не
привыкать дирижировать.
Как обычно, после концерта из зала стали
спрашивать, можно ли где-нибудь купить запись
этого ансамбля, и как обычно прозвучал ответ, что
пока такой записи не существует в природе. Честно
говоря, я сомневаюсь, что музыканты ее
когда-нибудь вообще сделают. Тем более что у
Лондона уже вышли два альбома с музыкой для
фильмов, так что следующий, скорее всего, будет
нескоро.
Есть подозрение, что часть героев этого выпуска
перекочует и в следующий. Посмотрим, посмотрим...
Иван Шокин,
собственный корреспондент
"Полного джаза" в Нью-Йорке
|