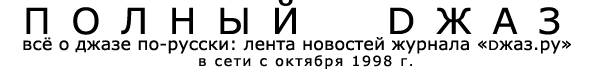Именно
так, видимо, должна была бы выглядеть
аббревиатура названия очередного фестиваля
Московского джаз-ангажемента, проходи он
(фестиваль) в советские времена. Впрочем, МДА
редко расстается с до-обрыми традициями, так что
на бэджах участников и организаторов фестиваля
значилось попросту: "V ММДФ". Без упоминания,
им. кого он в этом году (напомним, год назад он был
посвящен столетию Эллингтона, два года назад -
Гершвина). Оно и понятно - мифология утверждает,
что Сатчмо родился 4 июля 1900-го, свидетельство о
крещении - что 4 августа 1901-го, ну а исследователи
разбрасывают возможную дату рождения Армстронга
на пространстве между 1900 и 1904 гг. Что поделать, он
родился не в обеспеченной еврейской семье, как
Гершвин, и даже не в обеспеченной
афроамериканской, как Эллингтон - родился он в
семье бедной, не просто афроамериканской, а
просто-таки негритянской, прямо в Нью-Орлеане.
Так что достоверных документов о его рождении
нет: бедные негры, как и индейцы, следовали
мудрому правилу - раз человек есть, значит, он
родился, и зачем ему еще какое-то свидетельство о
рождении? Именно
так, видимо, должна была бы выглядеть
аббревиатура названия очередного фестиваля
Московского джаз-ангажемента, проходи он
(фестиваль) в советские времена. Впрочем, МДА
редко расстается с до-обрыми традициями, так что
на бэджах участников и организаторов фестиваля
значилось попросту: "V ММДФ". Без упоминания,
им. кого он в этом году (напомним, год назад он был
посвящен столетию Эллингтона, два года назад -
Гершвина). Оно и понятно - мифология утверждает,
что Сатчмо родился 4 июля 1900-го, свидетельство о
крещении - что 4 августа 1901-го, ну а исследователи
разбрасывают возможную дату рождения Армстронга
на пространстве между 1900 и 1904 гг. Что поделать, он
родился не в обеспеченной еврейской семье, как
Гершвин, и даже не в обеспеченной
афроамериканской, как Эллингтон - родился он в
семье бедной, не просто афроамериканской, а
просто-таки негритянской, прямо в Нью-Орлеане.
Так что достоверных документов о его рождении
нет: бедные негры, как и индейцы, следовали
мудрому правилу - раз человек есть, значит, он
родился, и зачем ему еще какое-то свидетельство о
рождении?
Даже автора вступительной статьи к буклету
фестиваля, неизменного ведущего мероприятий МДА
Владимира Каушанского, бес хронологии
основательно попутал. Вот что мы в оном буклете
читаем:
"...великий трубач Джо Оливер. Перед своим
отъездом в Чикаго в 1917 году именно он потребовал
взять на свое место Луи Армстронга (кстати,
почему гг. из МДА никогда не называют Луиса
Армстронга полным именем, которым он, собственно,
сам себя именовал? - ред.)... по
"совместительству" 22-летний Армстронг
участвовал в марширующем оркестре..."
Но ведь даже если брать самую раннюю дату
рождения, 1900-й, то 22 Армстронгу оказывается вовсе
не в 1917, а в 1922-м?
Ну да ладно, не в этом дело, и совершенно это не
имеет отношения к собственно фестивалю.
 Перед началом первого из двух
концертов - 2 июня - в фойе зала Чайковского, а
затем и на сцене был устроен парад
диксилендов. Перед началом первого из двух
концертов - 2 июня - в фойе зала Чайковского, а
затем и на сцене был устроен парад
диксилендов.
Нынешний диксиленд довольно мало имеет
отношения к нью-орлеанскому джазу, который
представлял Армстронг, в его подлинном виде, это
продукт вторичного, третичного и четвертичного
преломления стилистики раннего джаза через
творчество послевоенных
консерваторов-ривайвлистов (в большинстве своем,
кстати, белых). Но тут уж ничего не поделаешь:
традиционный джаз представлен сейчас именно
диксилендами, вне США этот вид музицирования
чрезвычайно популярен, дискилендовых ансамблей
по всему миру тысячи и тысячи. Дискисленды есть в
Таиланде, Индонезии, Новокузнецке, Шотландии,
Южной Африке, Челябинске - в общем, везде, где нет
крепкой традиции современного джазового
мэйнстрима (заметим, что в большинстве таких мест
парой к диксиленду выступает обычно суровый
авангард: например, в Литве, судя по косвенным
признакам, у молодых авангардных музыкантов
считается хорошим тоном параллельно играть в
диксиленде). В Москве диксилендов тоже довольно
много, и все ветераны жанра были представлены на
"Параде" - вместе, в одной толпе музыкантов
из тридцати, играли такие зубры, как Альберт
Мелконов, Лев Лебедев, Борис Матвеев...
Когда, миновав стадию неизбежных джазменов в
погонах и мундирах, парад выхлестнулся на сцену
КЗЧ, среди исполнителей диксиленда при массовом
удивлении трудящихся возник даже сам Герман
Лукьянов! Нового слова в исполнении диксиленда
он, впрочем, сказать не успел, однако за сценой
охотно объяснил вашему корреспонденту, что это
был уникальный эксперимент, единственный раз за
тридцать лет, и больше такого никогда не будет.
Так что имевшие глаза - да увидели (слушать ушами
было особенно нечего, диксиленд - он и в
Хацепетовке диксиленд).
 Первый собственно музыкальный сет
фестиваля представляли братья Бриль со своим
ансамблем, за которым, кажется, окончательно
закрепилось название Jazz Friends. На барабанах в этом
составе - стабильный фанк-металлист Дмитрий
Севастьянов, на фортепиано установился
"молодой, подающий надежды" Алексей Беккер,
а на контрабасе был Сергей Хутос, часто
появляющийся как подменный басист в разных
составах Игоря Бутмана. Довольно радикальный
репертуар, самая благонамеренная пьеса в котором
принадлежит перу отца братцев-саксофонистов
Дмитрия и Александра (кто не знает - их отца зовут
Игорь Бриль). Достаточно крепкие (чтоб не сказать
добротные) аранжировки. Изящные и умные соло
сопраниста Дмитрия и несколько более
громогласно-многословные - тенориста Александра.
В общем - вполне представительно как молодая
часть современного мэйнстрима, вот только бы
чуть менее занудства - и хоть в Нью-Йорк (правда, и
там мэйнстримового занудства хоть отбавляй). Для
любящей эту стилистику публики - что надо, беда
только в том, что на фестиваль им. Луи Армстронга
и публика пришла слушать Луи Армстронга, парад
диксилендов им был в самый раз, а вот на братьях
Бриль публика позасыпала. Первый собственно музыкальный сет
фестиваля представляли братья Бриль со своим
ансамблем, за которым, кажется, окончательно
закрепилось название Jazz Friends. На барабанах в этом
составе - стабильный фанк-металлист Дмитрий
Севастьянов, на фортепиано установился
"молодой, подающий надежды" Алексей Беккер,
а на контрабасе был Сергей Хутос, часто
появляющийся как подменный басист в разных
составах Игоря Бутмана. Довольно радикальный
репертуар, самая благонамеренная пьеса в котором
принадлежит перу отца братцев-саксофонистов
Дмитрия и Александра (кто не знает - их отца зовут
Игорь Бриль). Достаточно крепкие (чтоб не сказать
добротные) аранжировки. Изящные и умные соло
сопраниста Дмитрия и несколько более
громогласно-многословные - тенориста Александра.
В общем - вполне представительно как молодая
часть современного мэйнстрима, вот только бы
чуть менее занудства - и хоть в Нью-Йорк (правда, и
там мэйнстримового занудства хоть отбавляй). Для
любящей эту стилистику публики - что надо, беда
только в том, что на фестиваль им. Луи Армстронга
и публика пришла слушать Луи Армстронга, парад
диксилендов им был в самый раз, а вот на братьях
Бриль публика позасыпала.
 Разбудил
ее Игорь Бутман, против
обещанного в программке квартета выставивший на
сцену весь свой биг-бэнд. Горячие летние денечки
привели на смену некоторым участникам subs, то есть
подменщиков, но ключевые фигуры были. Любителей
Армстронга порадовал трубач Владимир
Галактионов: традиционную стилистку он не
особенно любит, но владеет ею изумительно. Хорош
был и альтист Денис Швытов, и тенорист Дмитрий
Мосьпан, и многие другие. А уж когда Игорь
(игравший, кстати, против обыкновения
исключительно на сопрано) зарядил плясовую -
"Soul Bossa" в аранжировке Куинси Джонса - тут
спящие окончательно проснулись, и зал заплясал
сидя (для "стоя" в КЗЧ, слава Богу, нет места). Разбудил
ее Игорь Бутман, против
обещанного в программке квартета выставивший на
сцену весь свой биг-бэнд. Горячие летние денечки
привели на смену некоторым участникам subs, то есть
подменщиков, но ключевые фигуры были. Любителей
Армстронга порадовал трубач Владимир
Галактионов: традиционную стилистку он не
особенно любит, но владеет ею изумительно. Хорош
был и альтист Денис Швытов, и тенорист Дмитрий
Мосьпан, и многие другие. А уж когда Игорь
(игравший, кстати, против обыкновения
исключительно на сопрано) зарядил плясовую -
"Soul Bossa" в аранжировке Куинси Джонса - тут
спящие окончательно проснулись, и зал заплясал
сидя (для "стоя" в КЗЧ, слава Богу, нет места).
 Все же второе отделение было
отдано американо-германскому (точнее, собранному
живущим в Германии экс-советским барабанщиком
Александром Симановским из подручных немцев и
живущих в Германии американцев) квартету Джона
Маршалла. Все же второе отделение было
отдано американо-германскому (точнее, собранному
живущим в Германии экс-советским барабанщиком
Александром Симановским из подручных немцев и
живущих в Германии американцев) квартету Джона
Маршалла.
Главное действующее лицо - трубач Джон Маршалл,
когда-то нью-йоркский, а с 1992 г. - германский
музыкант (он работает в оркестре Кельнского
радио, знаменитом WDR биг-бэнде). Кстати, о WDR
биг-бэнде: на сцене присутствовал его дирижер и
худрук - пианист Билл Доббинс, тоже когда-то
американец. Оба экс-американца, правда, почему-то
носили неискоренимо немецкий облик - видимо, так
воздух Кельна действует; да и музицирование их, с
технической точки зрения превосходное, с точки
зрения музыкальной было по-немецки гладким,
аккуратным и скучным, без каких бы то ни было
открытий и шагов в сторону от патентованного,
стократ проверенного, самозатачивающегося,
нержавеющего и пылевлагонепроницаемого
мэйнстримового занудства. Тому немало
способствовала не очень-то ритмичная, хоть и
очень опытная ритм-секция в составе громкого
экс-соотечественника Симановского (экс-ансамбль
"Мелодия", где под руководством Г.А.Гараняна
было им записано две сотни пластинок - понятное
дело, в массе своей не джазовых, а эстрадных) и
старательного германца Хеннинга Гайлинга
(обладающего превосходным звуком, но заметно
проигрывающего в плане свинга). Сказать по чести
и совести (а также по уму), до конца этого
выступления ваш корреспондент не досидел.
Изящно, технически грамотно, временами - даже
виртуозно, но... скучно.
Ким Волошин
3 июня - второй день фестиваля, посвященного
столетию Луи Армстронга. На том же месте, в тот же
час. В зале - всего процентов пять свободных мест.
Глаз радовала удивительно разнообразная публика
- от одетых с претензией на молодость и
элегантность пожилых дам с сигаретами в дешевых
мундштуках и энергичных старичков до
припанкованных молодых людей и детей лет десяти,
старательно рассматривающих фотографии в
вестибюле. С завидным постоянством мелькали
улыбающиеся темнокожие лица и слышалась
нерусская речь.
 В этот день, чтобы отдать дань
памяти Луи Армстронгу, на сцену вышли "Нarlem blues
and jazz band", специально прилетевшие из Нью-Йорка
для участия в фестивале. Это первый визит в
Россию этих, по выражению ведущего Владимира
Каушанского, "семи китов" американского
джаза: некоторые из них выступали когда-то с
Дюком Эллингтоном, Эллой Фицджеральд, Лайонелом
Хэмптоном и непосредственно с самим Сатчмо.
Возраст им вовсе не помеха - хотя самому старшему
из них (барабанщику Джонни Блоуэрсу) "всего"
89 лет, они и сейчас дадут фору любому молодому
музыканту: ведь музыка, которую они играют, не
стареет. В этот день, чтобы отдать дань
памяти Луи Армстронгу, на сцену вышли "Нarlem blues
and jazz band", специально прилетевшие из Нью-Йорка
для участия в фестивале. Это первый визит в
Россию этих, по выражению ведущего Владимира
Каушанского, "семи китов" американского
джаза: некоторые из них выступали когда-то с
Дюком Эллингтоном, Эллой Фицджеральд, Лайонелом
Хэмптоном и непосредственно с самим Сатчмо.
Возраст им вовсе не помеха - хотя самому старшему
из них (барабанщику Джонни Блоуэрсу) "всего"
89 лет, они и сейчас дадут фору любому молодому
музыканту: ведь музыка, которую они играют, не
стареет.
С первых нот внимание публики было захвачено
полностью. Энергетика фонтанировала в зал - люди
слушали, затаив дыхание и всякий раз разражаясь
бурными овациями. На галерке отплясывали дамочки
неопределенного возраста - видимо, вспоминали
молодость. Знаменитая композиция из позднего
репертуара Армстронга "What a wonderful world"
частично была просто заглушена аплодисментами,
частично спета самыми голосистыми слушателями
партера.
Вокалистка ансамбля, Рут Брисбейн, появилась на
сцене уже под конец выступления, и ее грациозный
вокал только подогрел атмосферу... Чего стоил
только ее зажигательный дуэт с самым молодым
участником гарлемского ансамля - трубачом Джои
Морантом, который умудрялся держать одной рукой
микрофон и петь, другой играть на трубе, а потом
заиграл на двух трубах сразу!
 Вообще трубач Джои, пожалуй, был
главным шоуменом коллектива, он-то и "завел"
московскую аудиторию. Но не он один: остальные
ветераны тоже были на высоте. Саксофонист Бабба
Брукс, например, дебютировал на нью-йоркской
сцене в 1944 году. Вообще трубач Джои, пожалуй, был
главным шоуменом коллектива, он-то и "завел"
московскую аудиторию. Но не он один: остальные
ветераны тоже были на высоте. Саксофонист Бабба
Брукс, например, дебютировал на нью-йоркской
сцене в 1944 году.
А вот гитарист Ал Кейси действительно играл с Луи
Армстронгом, даже записал с ним несколько песен.
Играл с ним и пианист Эд Сунстон, причем больше
всех в ансамбле - восемь лет в 40-50-х гг., он даже
снимался с Армстронгом в двух фильмах.
 Удивительно, насколько
эти пожилые, с трудом передвигающиеся люди были
полны жизни и энергии. В случайно подслушанном
мною разговоре (на задних рядах) было высказано
предположение, что "эти старички никогда не
умрут и будут "зажигать" вечно". По
крайней мере, народ упорно не желал отпускать
"старичков" со сцены, требовал бисов, и от
грозившей музыкантам "Harlem blues and jazz band"
длинной ночи в стенах зала им. Чайковского спас
только ведущий Каушанский, здраво рассудив, что
после такого "накала страстей" почтенной
публике неплохо бы отдохнуть, и объявив
антракт. Удивительно, насколько
эти пожилые, с трудом передвигающиеся люди были
полны жизни и энергии. В случайно подслушанном
мною разговоре (на задних рядах) было высказано
предположение, что "эти старички никогда не
умрут и будут "зажигать" вечно". По
крайней мере, народ упорно не желал отпускать
"старичков" со сцены, требовал бисов, и от
грозившей музыкантам "Harlem blues and jazz band"
длинной ночи в стенах зала им. Чайковского спас
только ведущий Каушанский, здраво рассудив, что
после такого "накала страстей" почтенной
публике неплохо бы отдохнуть, и объявив
антракт.
Впрочем, публика рассудила (не менее здраво), что
все самое интересное в тот вечер она уже
услышала, поэтому, когда на сцене появился
ансамбль Германа Лукьянова
"Каданс-Миллениум", пустых мест в зале
ощутимо прибавилось. "Разогретые" и веселые
слушатели ожидали, видимо, продолжения
"банкета", но серьезные философские мелодии
Лукьянова не оправдали их ожиданий: сдержанные
вежливые аплодисменты, откровенно скучающие
лица.
 Надо сказать, что Герману
Константиновичу просто не повезло - поставить
его коллектив с заведомо непростой,
интеллектуальной музыкой после яркого
американского шоу, на которое большинство и
пришло, вряд ли было со стороны организаторов
хорошей идеей. Надо сказать, что Герману
Константиновичу просто не повезло - поставить
его коллектив с заведомо непростой,
интеллектуальной музыкой после яркого
американского шоу, на которое большинство и
пришло, вряд ли было со стороны организаторов
хорошей идеей.
Люди уходили прямо посреди композиций, и к
выступлению квинтета Якова Окуня с трудом
оставалась половина зала. Молодых звезд
российского джаза, к сожалению, принимали не
лучше, хотя заслуживали они куда большего. Но на
часах время приближалось к одиннадцати, и зал
стремительно пустел...
Одним словом, фестиваль был завершен отнюдь не
лучшим образом. Нехорошо как-то получилось;
все-таки главную приманку - гарлемский ансамбль -
надо было ставить в конец программы. И, хотя у
публики в этот вечер был свой праздник,
российские музыканты не заслужили такого финала.
Екатерина
Миронова
|